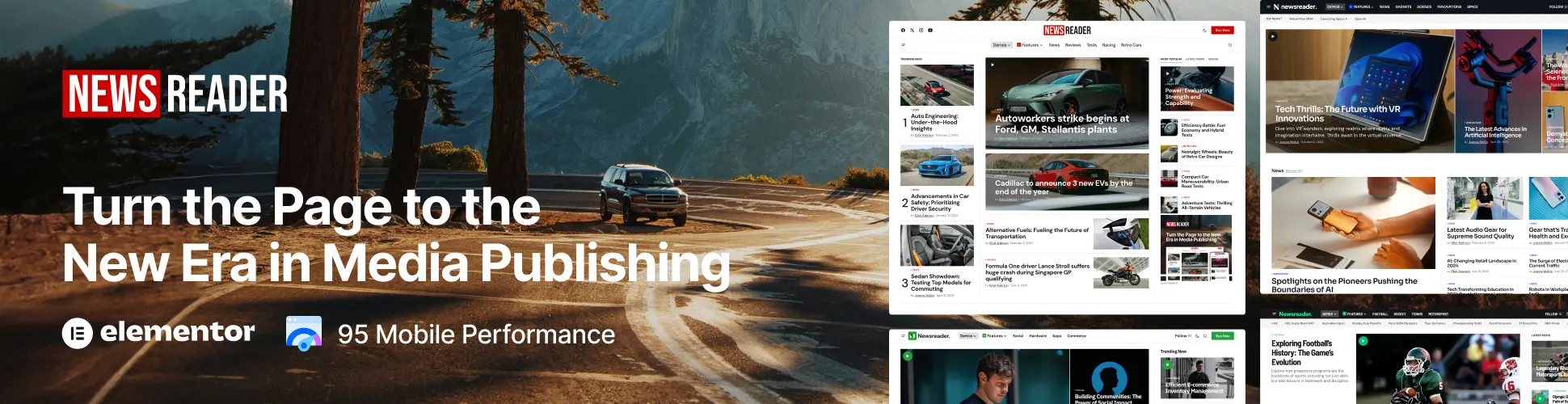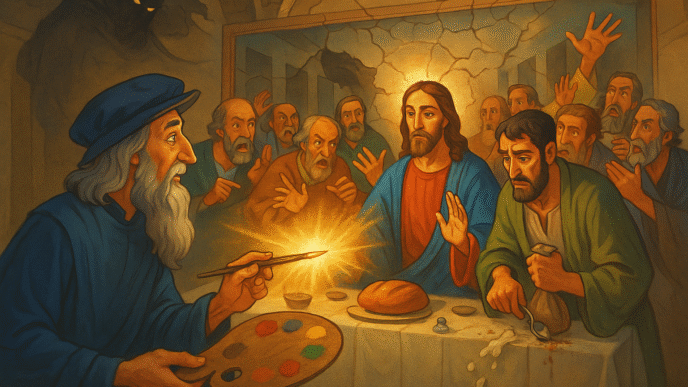В городе Высокие Липы жил лекарь по имени Савелий.
Он был стар, сухощав и носил очки с такими толстыми стёклами, что глаза за ними казались огромными, как у совы. Говорили, что Савелий знает всё: какая трава от жара, какая от кашля, какой корень варить при ломоте в костях. К нему шли со всего города и из окрестных деревень, и он никогда не отказывал и никогда не говорил «не знаю».
Ни разу за сорок лет.
У него была ученица — двенадцатилетняя Марфа, дочь плотника. Она пришла два года назад, потому что хотела лечить людей, а Савелий взял её, потому что устал быть один. Марфа толкла травы в ступке, разводила огонь под котелком, бегала за водой. А главное — спрашивала.
— Почему полынь горькая?
— Почему кровь красная?
— Почему сердце стучит?
Савелий отвечал, когда знал. А когда не знал, говорил:
— Так устроено, — и менял тему.
В ту осень в город пришла болезнь.
Началось с кузнеца — он слёг с жаром и пятнами по всему телу. Потом заболела его жена. Потом подмастерье. К концу недели болело полгорода.
Люди лежали пластом, горели, бредили. Пятна расползались, как лишайник по коре. Никто не умирал, но никто и не выздоравливал.
Савелий не спал трое суток.
Он перепробовал всё: липовый цвет от жара, чистотел от пятен, отвар ивовой коры, настойку прополиса. Ничего не помогало. Жар спадал на час и возвращался. Пятна бледнели к утру и наливались к вечеру.
На четвёртый день в дверь постучали.
На пороге стоял бургомистр — тучный, вспотевший, с трясущимися руками.
— Савелий, — сказал он, — жена слегла. И сын. Мальчику шесть лет.
Лекарь молча взял сумку.
В доме бургомистра было темно и жарко. Окна завесили войлоком, щели законопатили паклей — чтобы «дурной воздух» не проник. Печь топилась так, что дышать было нечем.
Мальчик лежал на лавке — маленький, с восковым лицом. Пятна на его шее были почти чёрные. Он хватал ртом воздух, как рыба на берегу.
Савелий осмотрел его. Пощупал пульс, понюхал дыхание, оттянул веко.
— Ну? — Бургомистр стоял над ним. — Что делать?
Савелий молчал.
— Савелий!
— Я не знаю.
Тишина. Только потрескивал фитиль в лампе.
— Как — не знаешь? — прошептал бургомистр. — Ты сорок лет лечишь! Мою мать от угара вытащил! А теперь — не знаешь?!
— Я никогда не видел этой болезни. Ни в книгах, ни в жизни. Не знаю, что её вызывает. Не знаю, что её лечит.
— Так придумай что-нибудь!
— Что? — Савелий поднял голову. — Наугад? Если я дам ему неправильное лекарство, будет хуже.
— Но ты должен знать! Ты — Савелий! Ты всё знаешь!
— Это вы так говорите. — Голос лекаря был ровный, мёртвый. — Я никогда так не говорил.
Лицо бургомистра исказилось.
— Вон, — прошипел он. — Вон из моего дома. Шарлатан.
Они шли обратно через рыночную площадь.
Слух уже расползся. Люди смотрели из окон, из дверей. Никто не здоровался. Кто-то швырнул огрызок — попал Савелию в спину. Он не обернулся.
— Савелий не знает…
— Обманывал нас…
— Шарлатан…
Марфа шла рядом, прижимая к груди корзину со снадобьями. Сердце колотилось. Она хотела закричать на этих людей, но горло сжалось.
И тут она увидела нищего.
Старик Ефим сидел у паперти — в рваном тулупе, с сизым носом, немытый и нечёсаный. Он сидел тут каждый день, в любую погоду. Спал на улице, ел что подадут.
Он был здоров.
Марфа замедлила шаг.
Рядом с Ефимом лежала собака — тощая, блохастая. Тоже здоровая.
А в богатых домах, где окна заколочены и печи топятся день и ночь, люди умирали.
— Учитель, — сказала Марфа тихо.
Савелий не услышал. Он шёл, сгорбившись, глядя под ноги.
— Учитель!
Он остановился.
— Посмотрите. — Марфа показала на Ефима. — Он здоров. Он спит на улице, на ветру. И собака здорова. А в домах, где все закупорились…
Савелий посмотрел на нищего. Потом на неё.
— Совпадение, — сказал он устало.
— А если нет?
Они дошли до каморки молча.
Савелий сел на лавку и закрыл лицо руками.
— Учитель, — Марфа села рядом. — Я думала. Кто болеет? Кузнец — он работает в горячей кузне, окна закрыты, угар. Бургомистр — дом законопачен, печь пылает. Булочник — то же самое.
— И что?
— А кто не болеет? Нищие. Пастухи. Рыбаки. Все, кто на воздухе.
Савелий поднял голову.
— Больного надо держать в тепле, — сказал он медленно. — Так написано в книгах. Холод — враг.
— А если книги ошибаются?
— Книги писали мудрые люди…
— Мудрые люди, которые тоже могли не знать.
Савелий уставился на неё.
Сорок лет он лечил людей. Сорок лет следовал книгам: тепло, покой, никаких сквозняков. И сейчас эта девочка говорила ему, что всё наоборот?
— Это безумие, — сказал он.
— А если это правда?
Савелий молчал. В голове стучало. Мальчик с восковым лицом. Духота. Чёрные пятна на шее.
— Ему нечем дышать, — вдруг сказал он. — Там нечем дышать. Они законопатили всё, они…
Он вскочил.
— Идём.
У дома бургомистра стояла стража.
— Велено не пускать, — сказал детина с дубиной. — Бургомистр сказал: шарлатана гнать в шею.
— Там мальчик умирает.
— Не твоя забота.
Савелий стоял, сжимая кулаки. Марфа видела, как дрожат его руки.
— Пусти, — сказал он тихо.
— Сказано — нет.
Савелий посмотрел на окно. Заколоченное войлоком, наглухо.
Мальчик там задыхается. Прямо сейчас.
Он оттолкнул стражника и побежал к окну.
— Эй! — Детина рванул за ним, но Савелий уже схватил полено из поленницы и с размаху ударил в раму.
Треск. Звон. Войлок разлетелся клочьями.
Морозный воздух хлынул внутрь — синий, колючий, пахнущий снегом.
Из дома раздался крик.
— Ты что творишь?! — Бургомистр выскочил на крыльцо, красный, с перекошенным лицом. — Ты убил его! Ты впустил холод! Убийца!
Он бросился к Савелию, схватил за ворот.
И тут из комнаты донёсся звук.
Вдох.
Глубокий, хриплый, жадный.
Все замерли.
Бургомистр отпустил Савелия и кинулся в дом. Лекарь — следом.
Мальчик лежал на лавке. Глаза открыты. Грудь вздымалась — ровно, глубоко. Лицо всё ещё бледное, но уже не восковое.
Он дышал.
— Холодно, — прошептал он. — Тятя, почему холодно?
Бургомистр упал на колени рядом с сыном.
— Дышит, — бормотал он. — Дышит…
Савелий стоял у разбитого окна. Его трясло.
— Откройте окна по всему городу, — сказал он. — Везде, где больные. Не топите печи. Пустите воздух.
— Но холод…
— Не холод их убивает. Их убивает духота. Болезнь любит застой. Любит спёртый воздух. Дайте им дышать.
Бургомистр смотрел на него — долго, странно.
— Ты же сказал, что не знаешь.
— Не знал. — Савелий устало прислонился к стене. — Вчера не знал. А сегодня — узнал.
К вечеру по городу стучали молотки — люди срывали войлок с окон.
К утру жар начал спадать — у одного, другого, третьего.
Через три дня мальчик бургомистра сидел в постели и просил есть.
Через неделю полгорода поднялось на ноги.
Никто не умер.
Савелий сидел на ступенях колокольни. Марфа — рядом.
— Вы разбили окно, — сказала она. — Вас могли убить.
— Могли.
— Почему вы это сделали?
Савелий помолчал.
— Потому что я знал, что прав. Не вчера — вчера не знал. Но сегодня — знал. И если бы я стоял и спорил, мальчик бы умер, пока я подбирал слова.
Марфа кивнула.
— Учитель, а если бы вы ошиблись? Если бы воздух не помог?
— Тогда я был бы убийцей. — Савелий посмотрел на неё. — Но я не гадал. Я видел: нищие здоровы, богачи больны. Разница — воздух. Это не было наугад. Это было… — Он поискал слово. — Догадка. Подкреплённая глазами.
— А вчера, у бургомистра, вы не стали угадывать. Сказали «не знаю».
— Потому что вчера у меня не было догадки. Были только чужие рецепты. Травы, которые не работали. — Он покачал головой. — Если бы я тогда соврал, начал пичкать мальчика настоями — он бы задохнулся в той духоте. А я бы думал, что лечу.
Марфа обняла колени руками.
— Выходит, «не знаю» — это не конец?
— Это начало. — Савелий слабо улыбнулся. — «Не знаю» открывает дверь. А враньё — закрывает. Если бы я притворился, что знаю, я бы перестал смотреть. Перестал думать. Ты бы не заметила нищего. Я бы не разбил окно.
— Но люди злились. Называли вас шарлатаном.
— Потому что им страшно. «Не знаю» — это неуютно. Это значит, что никто не защитит, никто всё не знает. Они хотят, чтобы кто-то знал. Тогда мир не такой страшный.
— Но вы же правда не знали.
— Никто не знает всего. — Савелий снял очки, потёр переносицу. — Никто на свете. Только одни признаются, а другие притворяются. Притворщики опасны. Они лечат духотой, потому что так написано в книгах. И не видят того, что перед глазами.
Марфа смотрела на площадь внизу. Люди ходили, торговали, смеялись. Живые.
— Учитель, — сказала она, — а можно я буду говорить «не знаю»? Даже если надо мной будут смеяться?
— Нужно, — ответил Савелий. — Только так и можно узнать. Сначала — признаться, что не знаешь. Потом — смотреть. Потом — догадаться. Потом — проверить.
— А если догадка окажется неправильной?
— Тогда признаться снова. И смотреть снова.
Марфа кивнула.
За окном садилось солнце. В домах светились окна — открытые, с белыми занавесками, которые шевелил ветер.
Город дышал.
А в маленькой каморке у рыночной площади лежала на столе книга — старая, потрёпанная. На полях, рядом с рецептом «Держать больного в тепле», чья-то рука вывела: «Проверено. Ложь».
Почерк был неровный, детский.
Марфа улыбнулась и закрыла книгу.